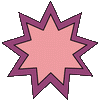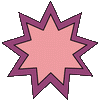“…Для меня,
священника-унитария средних лет, с
юности посвятившего себя изучению
религии и философии, встреча летом 1912
года во время восьмимесячного пребывания
Абдул-Баха в Америке стала событием,
перевернувшим всю жизнь. …
Я много раз
встречался с Абдул-Баха, слушал Его,
говорил с Ним, и с каждым разом на меня
производил все большее впечатление Его
метод воспитания души. Я не могу найти
более подходящего слова. Он не
апеллировал только лишь к разуму. Он
искал путей к душе, к внутренней
сущности каждого, с кем Он встречался.
О, Его аргументация могла быть
безупречно логичной, даже научной, что
нашло подтверждение во множестве тех Его
выступлений, которые мне довелось
услышать, и в еще большем количестве
тех, которые я прочел. Но это не была
логика школьного учителя, предмет для
заучивания в классе. Каждое Его слово,
любое Его упоминание о душе были
пронизаны сиянием, уносившим слушателей
ввысь, к новым вершинам понимания.
Сердца наши пылали, когда Он говорил. Он
никогда, разумеется, не вступал в споры,
не пытался навязать свою точку зрения.
Он предоставлял слушателям свободу.
Менее всего Он пытался предстать
непререкаемым авторитетом, скорее можно
было Его назвать воплощением скромности.
Он учил, "как бы преподнося подарок
Царю". Он никогда не говорил мне, как я
должен поступать, но иногда высказывал
одобрение моим поступкам. Не учил Он
меня и тому, во что мне верить. Но в Его
устах Любовь и Истина представали в
таком блеске и великолепии, что сердца
поневоле проникались благоговением.
Самим своим голосом, манерой, осанкой,
улыбкой показывал Он мне, каким я должен
быть, зная, что на чистой почве бытия
обязательно произрастут благие плоды дел
и слов. В каждом Его слове или жесте
было непостижимое, внушающее
благоговейное чувство сочетание
скромности и величия, раскрепощения и
мощи, источник которого был долгое время
для меня скрыт. Что же это было такое,
что делало Его столь непохожим, столь
безмерно превосходящим любого из людей,
которых я когда-либо встречал?
Однажды я
спросил Абдул-Баха: "Почему я должен
верить в Бахауллу?" Он обратил ко мне
долгий и внимательный взгляд, как бы
устремляя его в самую глубь моей души.
Воцарилось молчание. Он не отвечал. В
наступившей тишине я имел время
подумать, почему я задал этот вопрос, и
смутно я начал понимать, что дать ответ
мог только я сам. В конце концов, почему
я должен верить в кого-то или во что-то,
что не является средством, стимулом или
движущей силой для достижения жизни
более глубокой, более полной и
совершенной? Ученик столяра задает ли он
себе вопрос: почему он должен верить в
мастера своего хозяина? Он хочет знать,
как превращать сырой материал в красивые
и полезные вещи. Он должен верить во
всякого, кто может показать ему, как это
делается, при условии, что он сначала
должен уверовать в свои способности.
Моим материалом была жизнь. Был ли
Бахаулла Мастером? Если да, то я бы
знал, что должен следовать за ним, даже
ценой крови и слез. Но как я мог это
знать?
Я недоумевал,
почему Абдул-Баха столь долго хранит
молчание. Но было ли это молчанием? Его
спокойствие было красноречивее всяких
слов. Наконец Он заговорил. Он сказал,
что работа христианского священника
очень ответственна. Когда вы
проповедуете, молитесь, увещеваете своих
прихожан, сердце ваше должно быть
исполнено любви к ним и к Господу. И еще
вы должны быть искренни, предельно
искренни. Он говорил по-персидски,
переводчик быстро и точно переводил. Но
никто не в силах перевести этот
Божественный Голос. Воистину, Он говорил
так, как не может говорить простой
смертный. Его слушали, затаив дыхание,
понимая внутренним слухом смысл его слов
еще раньше, чем переводчик раскрывал
рот. Казалось, английский язык обнажил
суть слов: голос, глаза, улыбка
Абдул-Баха подсказывали сердцу путь к
самой сути. Потом Он говорил о том, что:
Человек не может быть в полной мере
искренним до тех пор, пока сердце его не
освободится полностью от пристрастия к
делам земным. Нельзя проповедовать
любовь, если в сердце твоем нет любви,
как нельзя проповедовать моральную
чистоту, тая в себе нечистые мысли. Так
же невозможно проповедовать мир,
пребывая в состоянии внутренней борьбы.
Он остановился и добавил, не без
грустной иронии, что знал священников,
которые с этим справлялись.
Моя нечистая
совесть не стала протестовать. Я тоже
был таким. Лишь много месяцев спустя я
понял, что Он ответил на мой вопрос.
Несомненно, я уже приблизился к тому,
чтобы поверить в Бахауллу как Мастера в
искусстве жизни. Конечно, это был
красноречивый пример того, как сырой
материал жизни преобразуется в нечто,
обладающее красотой и ценностью.”